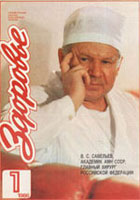Содержание.
Введение в познание человеческого разума
Предуведомление
О разуме вообще
Воображение,
размышление, память
Плодовитость
Сообразительность
Проницательность
О
рассудительности, ясности, способности к здравому суждению
О здравом смысле
О глубине
О деликатности,
тонкости и силе
О широте
О наитии
О вкусе
О слоге и красноречии
Об
изобретательности
О таланте и разуме
О характере
О серьезности
О хладнокровии
О находчивости
О рассеянности
О разуме и игре
О страстях
О веселости,
радости, меланхолии
О самолюбии и
себялюбии
О честолюбии
О любви к светской
жизни
О славолюбии
О любви к наукам и
литературе
О скупости
О страсти к игре
О страсти к
физическим упражнениям
Об отцовской любви
О любви сыновней и
братской
О приязни к
животным
О приязни вообще
О любви
О человеческом лице
О сострадании
О ненависти
Об уважении,
почтении и презрении
О
любви к тому, что воздействует на наши чувства
О страстях как
таковых
О добре и
зле как нравственных понятиях
О величии души
О мужестве
О добре и красоте
Фрагменты
Предуведомление
О пирронизме
О натуре и привычке
Без деятельности
нет наслаждения
О несомненности
принципов
О
недостатке, присущем большинству явлений
О душе
О романах
Против
посредственности существования
О знатности
Об удаче
Против тщеславия
Не изменять своему
характеру
О пользе
деятельности
О споре
О несвободе нашего
духа
Добродетель
никогда не обманывает
О пользе общения с
людьми
О необходимости
совершать ошибки
О щедрости
Объяснение максимы
Паскаля
Естественность и
простота
О счастье
Несправедливость
к великим людям
Не след все валить на
судьбу
О людской черствости
О твердости
поведения
Разум не судья
чувству
Об учтивости
О терпимости
Об остроумии
О современных армиях
Чувства важнее
поступков
Против
подражательности
Советы молодому
человеку
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Еще
один совет молодому
человеку Способности должны соответствовать роду деятельности
Критические размышления о некоторых писателях
Лафонтен
Буало
Шолье
Мольер
Корнель и Расин
Ж.Б. Руссо
Филипп Кино
Ораторы
Лабрюйер
О некоторых
произведениях г-на де Вольтера
О Фенелоне
О Паскале и Боссюэ
О прозаиках XVII
О Декарте
О Монтене и Паскале
О Фонтенеле
О плохих писателях
Об одном
недостатке, свойственном поэтам
Об оде
О поэзии и
красноречии
О выразительности
слога
О трудности передачи
характера
Критические размышления о некоторых писателях
О некоторых произведениях
г-на де Вольтера
Полагаю, что, поговорив о Руссо и крупнейших поэтах минувшего столетия, уместно будет сказать несколько слов о человеке, который делает честь нашему веку и не уступает ни в даровании, ни в известности никому из предшественников, хотя слава его, отчетливей предстающая нашим взорам, навлекает на него более злобные нападки зависти. Критический разбор всех его произведений не мое, разумеется, дело: оно непосильно для моих скудных познаний, слишком выходит за их пределы, и браться мне за него не подобает хотя бы уже потому, что бесчисленное множество куда более просвещенных людей давно сказали об этом писателе все необходимое. Итак, я обойду здесь молчанием «Генриаду», которая, несмотря на все ей приписываемые и даже подлинные недостатки, остается бесспорно величайшим творением века и единственной нашей национальной поэмой в подобном роде. Немногое скажу я и про его трагедии: любая из них ставится самое меньшее раз в год, и каждый, кто наделен хотя бы намеком на хороший вкус, без меня заметит самобытность автора, обилие больших мыслей и украшающих эти мысли великолепных поэтических подробностей, а также силу, с какой живописуются страсти в этих пьесах, богатых блестящими и смелыми речениями.
Я не стану привлекать внимание читателя ни к «Магомету», этому величественному образцу трагедии ужасов, возможности которой, как считалось, были до конца исчерпаны создателем «Электры». Я не упомяну ни о нежности, разлитой по всей «Заире», ни о драматизме образа Ирода, ни о небывалой и благородной новизне «Альзиры», ни о цветах красноречия, рассыпанных в «Смерти Цезаря», ни наконец, о стольких других разнообразных пьесах, вызывающих восторг перед гением и плодовитостью их создателя. Но поскольку мне представляется, что трагедия «Меропа» еще более трогательна, естественна и лучше написана, нежели остальные, я без колебаний и отдам ей предпочтение. Меня восхищают в ней величественные характеры, правдивость, отличающая чувства и словесное выражение их; возвышенная простота роли Эгиста, единственного в своем роде характера на нашем театре; неистовость Меропы и ее прерывистая речь, пламенная и полная то гнева, то высокомерия. Я не могу сохранять спокойствие на представлениях пьесы, которая вызывает столь сильное волнение, и невозмутимо взвешивать, не нарушены ли в ней правила и строго ли соблюдено правдоподобие; с самого начала она берет меня за сердце и до самой развязки не дает перевести дух. Одним словом, если и найдется человек, который дерзнет утверждать, будто действие в этой трагедии построено не совсем правильно, а г-н де Вольтер вообще не слишком удачлив в замыслах своих пьес и сценическом их воплощении, я, не входя в суть вопроса, требующего чрезмерно долгого обсуждения, отвечу одно: тот же недостаток, который находят у г-на де Вольтера, вменялся - и справедливо - в вину множеству превосходных драматических произведений, однако нисколько им не повредил. Да, Мольеру редко удаются развязки, а его «Мизантроп», шедевр в этом роде словесности, представляет собой комедию, где нет действия, и все же он вызывает восхищение, вопреки, а нередко и благодаря вышеназванным недостаткам, - это привилегия людей, подобных Мольеру и г-ну де Вольтеру.
Вернемся к «Меропе». В ней меня восхищает и другое: действующие лица там всегда говорят то, что надобно сказать, они величавы, но чужды аффектации. Чтобы убедиться в этом, довольно заглянуть во второе явление второго действия, которое я и позволю себе привести здесь, хотя не так уж трудно выбрать пассаж еще более прекрасный.
Эгист
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тщеславье ложное меня с дороги сбило.
Родителям, когда их старость убелила,
В трудах обыденных я помогать не стал,
Проступок первый мой начало многим дал,
И правый гнев небес беды моей причина:
В ловушку угодив, я обвинен безвинно.
Меропа
Невинен он - не то б естествен не был так:
Лжи простота в речах несвойственна никак,
И руку помощи должна подать ему я.
Я нашу встречу с ним как знак небес толкую.
Довольно мне того, что он гоним судьбой.
Сдается, вижу я Эгиста пред собой.
Они в одних годах, да и обличьем схожи.
А вдруг, как он, изгой, мой сын бездомен тоже
И доведен в своих несчастьях до черты
Презреньем, спутником извечным нищеты?
Калечит душу срам и смелости лишает.
Последняя фраза Меропы естественна и возвышенна: любая мать в подобной беде испытывала бы совсем другие опасения, Меропа тем не менее искренна в своих переживаниях. Вот как сентенции обретают в трагедии подлинную глубину, и вот как следует вводить их в нее! Именно такое умение облекать страсть в простые слова характерно для больших поэтов; именно в нем, на мой взгляд, величие Расина, и именно к нему перестали стремиться многочисленные преемники последнего, то ли потому, что оно было им не свойственно, то ли потому, что им легче довольствоваться напыщенными тирадами,преувеличивая естественные душевные движения. Сегодня драматург мнит, будто действительно лепит образ, вкладывая в уста действующих лиц то, что, по его мнению, о них должны думать, хотя это как раз то, о чем им следовало бы молчать: удрученная мать сообщает, как она удручена; герой уведомляет, что он герой. Необходимо же, чтобы все это понимала публика, а сами они говорили о себе по возможности редко, по они чаще всего поступают наоборот. Великий Корнель был несвободен от указанного недостатка, и это портит все его образы, ибо, думается мне, характер действующего лица определяется не отдельными смелыми, сильными, возвышенными чертами, но всей совокупностью этих черт в сочетании с высказываниями, пусть даже самыми короткими. Внимая герою, который носится со своим тщеславием, вечно выставляясь напоказ и смешивая низкое с высоким, я восхищаюсь меткими наблюдениями талантливого автора, но испытываю презрение к его герою, характер которого не удался. Красноречивый Расин, хоть его и упрекают в неумении создавать характеры, был единственным писателем своей эпохи, у которого вообще есть характеры, а люди, восторгающиеся разнообразием великого Корнеля, выказывают, по-моему, излишнюю терпимость, прощая однообразную хвастливость его героев и окостенелость воспеваемых им добродетелей.
Вот почему, критикуя образы Ипполита, Баязида, Кифареса, Британика, г-н де Вольтер не затрагивает, насколько мне известно, Гофолию, Иодая, Акомата, Агриппину, Нерона, Бурра, Митридата и т.д. Но поскольку это вынуждает меня коснуться «Храма Вкуса», я с удовольствием воспользуюсь случаем упомянуть, что глубоко чту содержащиеся в этом произведении приговоры. Правда, я делаю исключение для отзыва о Боссюэ, «единственном красноречивом писателе, среди столь многих его собратий, бывших всего лишь изящными», поскольку г-н де Вольтер сам слишком искушен в красноречии, чтобы усмотреть только такое малое достоинство, как изящество, в творениях Паскаля, которому нет равного на земле в умении обнаруживать прекрасное в истинном и сообщать небывалую силу своим рассуждениям. Я беру на себя смелость восстать на авторитет г-на де Вольтера и в защиту добродетельного автора «Телемака», который был воистину рожден учить государей гуманности, человека, чьи кроткие и убедительные слова проникают в сердце, а рисуемые им благородные и правдивые картины, равно как трогательная чистота слога, без труда искупают чрезмерно частые поэтические общие места и несколько декламаторский тон. Но чем бы ни было продиктовано подчеркнутое пристрастие г-на де Вольтера к Боссюэ, в полной мере, кстати, разделяемое и мною, ибо он безусловно остается самым блестящим из ораторов, я должен сказать, что все остальное в «Храме Вкуса» поразило меня меткостью суждений, живостью, разнообразием и изысканностью слога, и я не могу понять, почему о столь веселом произведении, являющем собой образец приятности, судят с такой суровостью.
В ином, довольно далеком от предыдущего роде мне хотелось бы отметить две прелестные вещи - «Памяти Женонвиля» и «На смерть мадмуазель Лекуврер», где печаль, дружба, красноречие и поэзия изъясняются с самой непринужденной грацией и трогательной простотой. Я ставлю два подобные небольшие стихотворения, гениально написанные и дышащие страстью, выше многих длинных поэм.
Закончу с произведениями г-на де Вольтера несколькими словами о его прозе. Нет ни одного мало-мальски существенного достоинства, которого бы ей недоставало. Если вам хочется увидеть весь блеск учтивости нашего века в сочетании с неподражаемым умением отстаивать правду в вопросах хорошего вкуса, вам надлежит лишь прочесть предисловие к «Эдипу», с неповторимой деликатностью направленное против г-на де Ла Мота; если вы ищете чувство и гармонию, подкрепленные редким благородством, загляните в предисловие к «Альзире» и в «Послание г-же маркизе дю Шатле»; если, интересуясь всемирной литературой, вы ищете автора, обладающего способностью постигать характер многих наций и передавать манеру самых различных великих поэтов, вы найдете все это в «Размышлениях об эпических поэтах» , и в отрывках из английских стихотворцев, переведенных г-ном де Вольтером так, что они, пожалуй, превосходят оригинал. Не говорю уже об «Истории Карла XII», критики которой оказались настолько несостоятельны, что книга завоевала непререкаемый авторитет, поскольку она, на мой взгляд, написана с силой, точностью и образностью, достойными ее автора. Но если даже вам знакомы у г-на де Вольтера лишь «Опыт о веке Людовика XIV» и «Размышления об истории», этого достаточно, чтобы счесть его не только первоклассным писателем, но и гениальным художником, который, живописуя любой предмет крупным и быстрым мазком, являет глазам нагую истину. Вы признаете за ним могучее воображение, сближающее между собой самые отдаленные стороны человеческого бытия, и, наконец, дух, который стоит выше предрассудков, сочетая учтивость и философскую глубину нашего столетия со знанием былого, его обычаев, политики, верований и вообще всего, чем жило человечество.
А если найдутся все же пристрастные люди, упорно стремящиеся выискивать в его созданиях ошибки и слабости и требующие от столь универсального дарования такой же отделанности и безупречности, как от тех, кто замкнулся в одной, часто второстепенной области литературы, то стоит ли возражать подобным неразумным критикам? Я могу лишь надеяться, что немногие нелицеприятные судьи одобрят прямоту, с которой я высказался здесь, ибо таково мое мнение, а я больше всего на свете дорожу правдой. Эти заметки - дань уважения, которое любовь к словесности обязывает меня выказать человеку, не занимающему важной должности, не вельможе, не фавориту, почему он и может ожидать от меня, равно как от любого, только одного - справедливости, сколько бы ни тщились воспрепятствовать этому невежество и зависть.