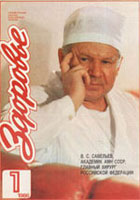Содержание.
Введение в познание человеческого разума
Предуведомление
О разуме вообще
Воображение,
размышление, память
Плодовитость
Сообразительность
Проницательность
О
рассудительности, ясности, способности к здравому суждению
О здравом смысле
О глубине
О деликатности,
тонкости и силе
О широте
О наитии
О вкусе
О слоге и красноречии
Об
изобретательности
О таланте и разуме
О характере
О серьезности
О хладнокровии
О находчивости
О рассеянности
О разуме и игре
О страстях
О веселости,
радости, меланхолии
О самолюбии и
себялюбии
О честолюбии
О любви к светской
жизни
О славолюбии
О любви к наукам и
литературе
О скупости
О страсти к игре
О страсти к
физическим упражнениям
Об отцовской любви
О любви сыновней и
братской
О приязни к
животным
О приязни вообще
О любви
О человеческом лице
О сострадании
О ненависти
Об уважении,
почтении и презрении
О
любви к тому, что воздействует на наши чувства
О страстях как
таковых
О добре и
зле как нравственных понятиях
О величии души
О мужестве
О добре и красоте
Фрагменты
Предуведомление
О пирронизме
О натуре и привычке
Без деятельности
нет наслаждения
О несомненности
принципов
О
недостатке, присущем большинству явлений
О душе
О романах
Против
посредственности существования
О знатности
Об удаче
Против тщеславия
Не изменять своему
характеру
О пользе
деятельности
О споре
О несвободе нашего
духа
Добродетель
никогда не обманывает
О пользе общения с
людьми
О необходимости
совершать ошибки
О щедрости
Объяснение максимы
Паскаля
Естественность и
простота
О счастье
Несправедливость
к великим людям
Не след все валить на
судьбу
О людской черствости
О твердости
поведения
Разум не судья
чувству
Об учтивости
О терпимости
Об остроумии
О современных армиях
Чувства важнее
поступков
Против
подражательности
Советы молодому
человеку
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Ему же
Еще
один совет молодому
человеку Способности должны соответствовать роду деятельности
Критические размышления о некоторых писателях
Лафонтен
Буало
Шолье
Мольер
Корнель и Расин
Ж.Б. Руссо
Филипп Кино
Ораторы
Лабрюйер
О
некоторых произведениях г-на де Вольтера
О Фенелоне
О Паскале и Боссюэ
О прозаиках XVII
О Декарте
О Монтене и Паскале
О Фонтенеле
О плохих писателях
Об одном
недостатке, свойственном поэтам
Об оде
О поэзии и
красноречии
О выразительности
слога
О трудности передачи
характера
Критические размышления о некоторых писателях
Корнель и Расин
Немногими своими познаниями в поэзии я обязан тому, что вычитал из произведений г-на де Вольтера. Задумав написать о Корнеле и Расине, я поделился с ним мыслями об этих авторах, и он был так добр, что в опровержение моей критики показал мне пассажи у Корнеля, особенно достойные восхищения. Это побудило меня вновь прочитать лучшие его трагедии, и я сразу обнаружил в них те удивительные красоты, о которых говорил г-н де Вольтер. Прежде я не обращал на них внимания, расхоложенный или предубежденный недостатками или скорее всего по самой своей природе менее чувствительный к особенностям его достоинств. Просвещенный г-ном де Вольтером, я стал бояться, что видел в неверном свете и Расина, и даже изъяны Корнеля, но, прилежно перечитав того и другого, своего мнения о наших прославленных поэтах не изменил и сейчас его изложу.
Герои Корнеля часто произносят речи о возвышенных чувствах, не рождая в нас никакого отклика; герои Расина рождают его, не произнося ни слова о них. Одни говорят - и всегда слишком длинно, - дабы проявить себя, другие проявляют себя уже тем, что заговорили. Корнель как будто вообще не понимает, что характер великих людей куда чаще сказывается в том, о чем они умалчивают, чем в том, о чем разглагольствуют.
Чтобы обрисовать натуру Акомата, Расин вкладывает в уста этого визиря следующую реплику в ответ на слова Османа о любви к нему янычар:
Ты думаешь, Осман, моя былая слава
Сияет и досель все так же величаво?
Но если в памяти турецких войск я жив,
Откликнутся ль они сейчас на мой призыв?
«Баязид», I, 1
Первые две строки показывают нам опального полководца, взволнованного воспоминаниями о былой славе и приверженности к нему воинов, третья и четвертая - мятежника, вынашивающего некий замысел: вот так люди невольно выдают себя. У Расина можно найти множество примеров, куда более убедительных, чем этот. В той же трагедии Роксана, уязвленная холодностью Баязида, делится своим недоумением с Аталидой, а когда та начинает уверять, что брат султана любит ее, бросает только:
Знай, жизнь царевича на волоске висит.
«Баязид», III, 6
Таким образом, султанша не тратит времени на объяснения: «У меня гордый и неукротимый нрав. Моя любовь ревнива и неистова. Я погублю царевича, если он мне изменит». Поэт опускает ее признания, но мы мгновенно все угадываем, и образ Роксаны встает пред нами с особенной живостью. Так Расин изображает своих героев и лишь в редких случаях отступает от этого правила; я привел бы еще немало блестящих примеров, если бы его творения не были так известны.
А теперь послушаем Корнеля и уясним себе, с помощью каких средств рисует характеры своих героев этот автор. Вот что в трагедии «Сид» говорит граф:
Для воспитания нужней пример живой:
Монарх по книгам долг не постигает свой,
И важно ли, что счет годам вы потеряли,
Что все они затмят один мой час едва ли?
Вы были смельчаком, а я остался им.
Я - щит отечества; пред именем моим
Трепещет Арагон, дрожит тайком Гренада.
Кастилье мой клиник надежная ограда.
Не будь меня, враги давно пришли б сюда,
И вы б под их ярмом согнулись навсегда.
Мне слава каждый день плетет венок лавровый
И воздает хвалу моей победе новой.
Окреп бы духом принц, ведя на бой войска
Под сенью моего всесильного клинка,
И, подражая мне в искусстве ратоборства,
До срока проявил те смелость и упорство,
Без коих титул...
«Сид», I, 3
В наши дни не найдется, пожалуй, человека, который не чувствовал бы нелепую кичливость подобной речи - на это, кажется, указывали задолго до меня.
Вина за нее ложится не столько на Корнеля, сколько на тот век, когда он писал, и на множество дурных образцов, бывших у него перед глазами. Но вот стихи, до сих пор вызывающие хвалу; поскольку они менее ходульны, то и впрямь могут ввести в заблуждение. Корнелия, вдова Помпея, обращается к Цезарю:
Пусть, Цезарь, рок меня в оковы ввергнул ныне,
Но пленницу не мог он превратить в рабыню,
И я за жизнь свою так мало трепещу,
Что слово «властелин» к тебе не обращу,
Красс-младший и Помпеи со мной делили ложе,
Отец мой - Сципион, и забывать негоже
Мне, римлянке, о том, что, как ни стражду я,
Чураться слабости должна душа моя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я - римлянка, о чем тебя предупреждала,
А, значит, и в плену пребуду столь горда,
Что не взову к тебе с мольбою никогда.
Как хочешь поступай. Я лишь напоминаю,
Что я - Корнелия и слова «страх» не знаю.
«Помпеи», III, 4
И вот еще одно место, где та же Корнелия говорит о Цезаре, карающем убийц Помпея:
Здесь чувство и расчет случайность так сплела,
Что я у Цезаря в долгу бы не была,
Когда б не верила, что об одной лишь мести
Сама бы думала на Цезаревом месте
И что, как каждому, в ком дух великий скрыт,
О ближнем по себе судить мне надлежит.
«Помпеи», V, 1
«Мне сдается, - говорит г-н де Фенелон в том же послании «О красноречии», - что у наших авторов римляне изъясняются слишком выспренно... Как непохоже велеречие Августа в трагедии «Цинна» на скромную простоту, с какой Светоний обстоятельно описывает его привычки. Тит Ливии, Плутарх, Цицерон, Светоний в один голос говорят нам о римлянах как о людях, чьи сердца исполнены гордыни, но речи просты, естественны, скромны» и т.д.
Именно эта напыщенная величавость, которую мы приписываем римлянам, всегда казалась мне главным недостатком наших театральных пьес и камнем преткновения для поэтов. Разумеется, гордость внушает почтение неискушенным людям, но умам утонченным сразу становится очевидной вся натянутость, вся фальшь кичливых, высокопарных словоизлияний. Заурядным поэтам ничего не стоит вложить в уста своих героев надменные речи. Трудность состоит в том, чтобы возвышенные слова оказались уместными и правдоподобными. Преодолеть ее умел великий Расин, но мало кто обращал внимание на этот его удивительный дар. В репликах расиновских героев так мало искусственной приподнятости, что звучащая в них гордость проходит незамеченной. Поэтому когда Агриппина, взятая под стражу по приказу Нерона и вынужденная оправдываться, начинает свою речь столь простыми словами:
Поближе сядь, Нерон. Все говорят, что надо
Мне оправдать себя. Вот только в чем?..
«Британии», IV, 2
- думаю, очень немногие понимают, что она как бы приказывает Нерону подойти к ней и сесть, хотя ей предстоит держать ответ за все содеянное и уже не перед сыном, а перед своим повелителем. Если бы она сказала, как Корнелия:
Нерон, пусть рок меня в окопы ввергнул ныне,
Но пленницу не мог он превратить в рабыню,
И я за жизнь свою так мало трепещу,
Что слово «властелин» к тебе не обращу -
несомненно, почти все нашли бы ее слова возвышенными и рукоплескали бы им.
Корнель слишком часто совершал эту ошибку - витийством подменял высокие чувства, декламацией - красноречие. Кое-кто из замечавших его склонность к ненатуральности оправдывали поэта стремлением показать людей такими, какими бы им следовало быть, то есть не отрицали, что во всяком случае он не списывал их с натуры - признание, разумеется, немаловажное. Корнелю, очевидно, мнилось, что, наградив своих героев ненатурально возвышенным характером, он превзошел натуру. Живописцы в этом отношении менее самонадеянны. Изображая ангелов, они придают им черты детей, отдавая тем самым должное природе их бесконечно разнообразной модели. Хотя воображению тут есть где разгуляться, мастера кисти отлично знают - человеческая фантазия весьма изобретательна по части всяческих химер, но вдохнуть жизнь в собственные свои вымыслы она неспособна. Если бы Корнель задумался над тем, почему все хвалебные речи так холодны, он понял бы, что повинно в этом желание ораторов сообразовать человеческую суть со своим представлением о ней вместо того чтобы свои представления почерпнуть в самом человеке.
Заблуждение Корнеля меня ничуть не удивляет: хороший вкус - это всегда тонкое и безошибочное понимание прекрасной натуры и свойствен он лишь тем, чьи мысли исполнены натуральности. У Корнеля, жившего в эпоху жеманства, не могло быть верного вкуса: свидетельство тому не только его собственные творения, но и те, которые он взял за образец, отыскав их у напыщенных испанских и латинских авторов, чью страсть к грандиозному предпочел куда более благородной и трогательной простоте греков.
Отсюда его натянутые противопоставления, грубые небрежности, бессчетные вольности в обращении с языком, темноты, высокопарность и, наконец, фразы-повторы, в которых одна и та же мысль излагается на разные лады, словно в длинных периодах проповеди.
Отсюда же нескончаемые препирательства, которые иной раз портят самые сильные сцены, ибо невольно начинает казаться, что присутствуешь при публичном чтении философского трактата, где автор все запутал с единственной целью потом все распутать. При этом герои трагедий Корнеля излагают сложные и хитроумные доказательства, как заправские педанты, или позволяют себе играть мыслями и словами наподобие школяров или законников.
Но и эти хитросплетения меньше коробят меня, чем низменность некоторых сцен. Так, в замечательном в общем диалоге Куриаций говорит Горацию перед тем, как тот уходит со сцены:
А мне ты все же свой - тем горше я страдаю,
Но мрачной гордости твоей не понимаю.
Как в наших бедствиях достигнут в ней предел,
Я чту ее, но все ж она не мой удел.
«Гораций», II, 3
Гораций, герой трагедии, отвечает ему:
Да, мужества искать не стоит против воли.
Когда отраднее тебе стенать от боли, -
Что ж, облегчать ее ты можешь без стыда
Вот и сестра моя рыдать идет сюда.
Корнель, по всей видимости, хотел живописать неистовую доблесть, но подобает ли человеку даже в порыве неистовства так отвечать другу и сопернику, исполненному скромности? Гордость - страсть в высшей степени театральная, но, проявляясь без должных оснований, она низводит себя до уровня тщеславия и суетности. Дерзну сказать все до конца: на мой взгляд, замысел характеров у Корнеля почти всегда благороден, но воплощение слишком часто недостойно этого замысла, общий тон пьесы неверен или неприятен. Героям Расина порою не хватает величия, зато слог его выдает руку мастера, ибо неизменно верен правде и натурален. Не удалось мне найти в характерах Корнеля и черт той простоты, которая свидетельствует о широте ума. Эти черты мы в изобилии находим у Роксаны, Агриппины, Иодая, Акомата, Гофолии. Поясню свою мысль: Корнелю было дано живописать добродетели суровые, беспощадные, непреклонные, а Расин создавал характеры возвышенные, не прибегая к рассуждениям и нравоучительству, ибо в каждом слове истинно великих людей невольно запечатлевается их душа. В особенно выгодном свете предстает перед нами Иодай, когда с величавой нежностью и простотой обращается к маленькому Иоасу, стараясь не подавлять ребенка слишком глубокомысленными речами; все это относится и к Гофолии. Корнель, напротив, желая показать возвышенный характер своих героев, нередко становится ходулен, и как тут не подивиться, что та же кисть иной раз живописует героизм столь энергичными и столь естественными чертами.
Тем не менее, когда сравнивают этих поэтов, Расина хвалят как будто лишь для того, чтобы возвеличить Корнеля. Пусть бы последнего славили за то, что он был несравненный мастер сочинять громкие фразы, - с этим я согласен; но если речь идет об искусстве Расина, об искусстве все ставить на свои места, метко характеризовать людей, их страсти, нравы, дарования, чураться темнот, излишеств, фальшивого блеска, быть верным натуре и при том вкладывать в свои творения пыл, изящество, высокое благородство, - возможно ли не признать, что подобное искусство присуще только гениям, что оно и есть тот образец, которому так усердно и так безуспешно подражают заурядные писатели? Чем одушевлены бесподобные речи Антония в трагедии «Смерть Цезаря», как не великим умом и подлинным красноречием автора этой пьесы?
Даже лучшие трагедии Корнеля слишком часто страдают отсутствием помянутых свойств. Я отнюдь не отрицаю, что с точки зрения замысла и развития действия они, как правило, очень хороши. Более того, на мой взгляд, он как никто другой умел сталкивать и противополагать действующих лиц в своих пьесах. Но слишком частое пренебрежение искусством излагать мысль точными словами и хорошим стихом - а, может быть, неправильное понимание этого искусства, - принижает многие достоинства Корнеля. Ему словно неведомо, что драматическое творение только тогда дарует удовольствие читателю или же, будучи представлено на театральных подмостках, создает иллюзию правды у зрителей, когда с помощью неиссякаемого красноречия оно непрерывно владеет их вниманием; если же сочинитель допускает много мелких промахов, внимание публики ослабевает и рассеивается. С давних пор известно, что для любого произведения в стихах всего важнее выразительность слов. Таково убеждение великих поэтов, и оно не нуждается в доказательствах. Кто ж не знает, до чего неприятно не только читать плохие стихи, но и слушать плохое чтение стихов хороших. Если напыщенность актера уничтожает естественную прелесть поэтического сочинения, то могут ли дурно выбранные слова и напыщенность самого поэта не отвратить и от его вымысла, и от его идей?
Есть недостатки и у Расина. Любовная интрига в некоторых пьесах развивается вяло и медленно. Его трагедиям не хватает стремительности. Герои слишком часто бездействуют. Мы отмечаем в творениях этого поэта скорее возвышенность, нежели энергию, отделанность слога, нежели смелость. Владея искусством рождать сострадание в ущерб ужасу и восторг в ущерб удивлению, Расин не достиг вершин трагического, доступных некоторым авторам. Человеку не дано владеть всеми дарованиями без изъятия. Но будем справедливы и признаем, что ему одному удалось сообщить нашему театру такой блеск, придать словам такую возвышенность, наделить их такой прелестью. Вдумайтесь в его произведения непредубежденно: какие в них легкость и богатство, сколько поэзии, сколько выразительности! Кому удалось создать язык великолепнее, проще, разнообразнее, благороднее, гармоничнее, трогательнее? Кто более верен правде в диалогах, в сравнениях, в характере героев, в изображении страстей? И такая ли уж дерзость утверждать, что никогда не было во Франции гения вдохновеннее и поэта красноречивее, нежели Расин?
У Корнеля, который застал на наших театральных подмостках пустыню, было то преимущество, что он образовал вкус своих современников, согласуясь лишь с собственной натурой. Расин пришел вслед за ним, и мнения публики разделились. Будь мы в силах изменить порядок их появления, возможно, изменилось бы и наше суждение об этих авторах.
Все это так, скажут мне, но Корнель пришел первый, и наш театр создал именно он. Согласиться с подобным утверждением я не могу. У Корнеля были великие образцы среди древних авторов; Расин ничего у него не заимствовал, он выбрал дорогу не просто иную, но, позволю себе сказать, прямо противоположную, и его оригинальность сомнению не подлежит. Если Корнель имеет право на славу открывателя, то в равной мере имеет его и Расин. Учители были у того и у другого, но чей выбор правильнее, и кто более умело им подражал?
Расина упрекают в том, что характеры его героев не отмечены чертами времени и нации, их породивших, но великие люди принадлежат всем векам и нациям. Придайте виконту де Тюренну и кардиналу де Ришелье характерные черты их века - и они оба станут неузнаваемы. Истинно высокие умы потому и высоки, что в какой-то мере выходят за рамки выработанных понятий и обычаев. Разумеется, следы тех и других остаются, но подобная малость затрагивает суть героя не больше, чем прическа и платье актера, который играет его на сцене, и поэт имеет право пренебречь этой малостью, все свое внимание сосредоточив на ярком живописании характера столь сильного и возвышенного, гения столь блистательного, что на него равно может притязать любой народ. Да и вообще я не согласен с утверждением, будто Расин погрешает против этих пресловутых правил, установленных для театральных пьес. Не будем говорить о его слабых трагедиях - об «Александре», «Фиваиде», «Беренике», «Есфири», - где тоже немало красот. Судить автора следует не по первым пробам пера и не по тем пьесам, которых у него немного, а по тем, которые составляют большинство, по его шедеврам. Кто решится сказать, что Акомат, Роксана, Иодай, Гофолия, Митридат, Нерон, Агриппина, Бурр, Нарцисс, Клитемнестра, Агамемнон не принадлежат своему времени, не наделены чертами, приданными им историками? Если Баязид и Кифарес похожи на Британика, если для игры на сцене их характеры слабы, хотя ничуть не надуманы, можно ли на этом основании обвинять Расина в том, что он вообще не умел создавать характеры, он, обладавший замечательным даром лепить своих героев так правдиво и благородно?
В заключение вернусь к Корнелю. На мой взгляд, он лучше, чем Расин, понимал, какую власть имеет занимательная интрига и противопоставление непохожих натур. Самые совершенные по слогу трагедии Корнеля, всегда, впрочем, уступающие трагедиям соперника, менее приятно читать, но иной раз интереснее смотреть на театре благодаря таким вот столкновениям противоположностей, искусной интриге, размаху страстей. Менее утонченный, чем Расин, он, может быть, и не столь глубок по сути замысла, но более силен в умении этот замысел развить. Корнель намного уступает Расину и в поэтическом даровании, и в красноречии, но мысль свою выражает порою с редкостной энергией. Никто не сравнится с ним в искусстве придать реплике смелость и возвышенность, напряженно и пылко вести диалог, изобразить силу и неколебимость, которую дух черпает в добродетели. Те самые словопрения, в которых я его упрекаю, озаряются иногда воистину ослепительными вспышками, переходят в потрясающие душу схватки страстей; короче говоря, пусть Корнель то и дело впадает в напыщенность, но как не признать, что у него есть сцены, где он живописует натуру просто и очень сильно - только они и впрямь достойны искреннего восхищения. Такова, мне кажется, должна быть беспристрастная оценка его дарования. Но, отдав должное таланту Корнеля, так часто опережавшего невежественный вкус своего времени, нам следует отвергнуть в его произведениях все, что носит печать этого дурного вкуса и что стремятся увековечить слишком горячие поклонники замечательного поэта.
Пишущая братия потому так снисходительна к указанным недостаткам, что всегда помнит о самобытных чертах мастеров, служащих ей образцами, и лучше кого бы то ни было знает цену новизне и таланту. Но все прочие, вынося приговор любому творению, исходят только из него самого, не делая скидок ни на время, ни на автора; поэтому полагаю, было бы весьма желательно, чтобы и литераторы взяли за правило отделять недостатки от достоинств даже самых великих писателей, ибо, смешивая под влиянием слепого преклонения подлинные красоты с погрешностями, они, возможно, добьются только одного: молодые люди начнут подражать недостаткам тех, кто служит им примером, - ведь дурному подражать легко, - но никогда не достигнут их великих свершений.